Мир и геополитические реалии
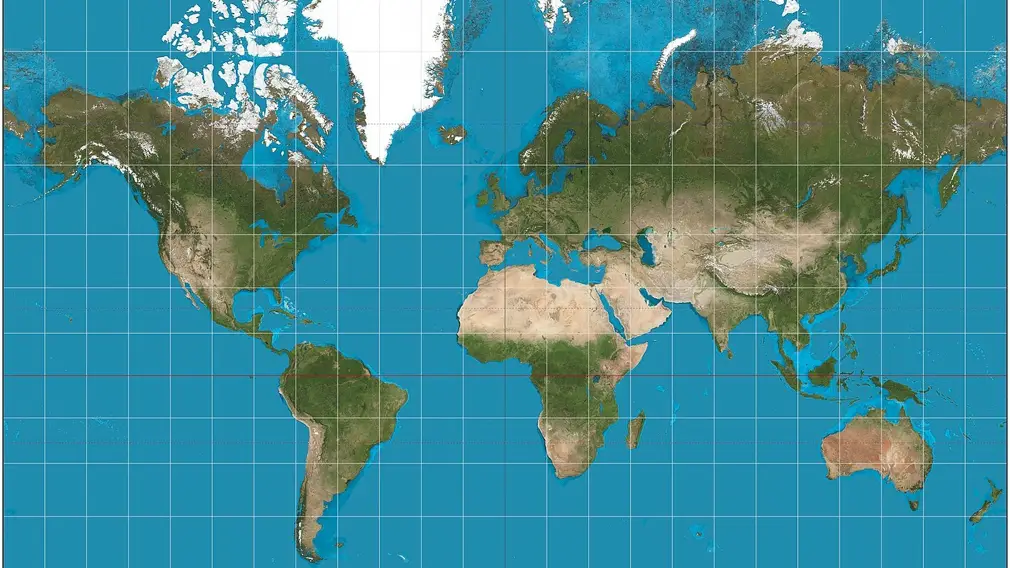

Мир и геополитические реалии
Мы живём в эпоху безумно интересную для исследователя (историка, политолога), но безумно опасную и дискомфортную для среднестатистического гражданина любой страны. Это именно то, что имели в виду древние китайцы, когда в качестве проклятия желали врагу жить в эпоху перемен.
Эпоха перемен гипердинамична и открывает перед людьми честолюбивыми и личностями творческими необозримые перспективы. Можно из капитана артиллерии вырасти в императора Наполеона, из обычного адвоката стать харизматичным лидером, ведущим журналистом страны Камилем Демуленом. Но и падать приходилось больно. Завершить жизнь на острове Святой Елены было ещё неимоверным везением. Подавляющее большинство конкурентов Наполеона до этого не дожило, многие были казнены, как и Демулен, и не менее харизматичный Дантон, и многие их яркие сподвижники и оппоненты, игравшие ведущие роли в первые годы эпохи перемен.
Так было везде и всегда, во всех странах, в любую эпоху перемен. Наша ещё относительно мирная. По крайней мере, пока.
Что же до обычного человека, который в любом обществе, в любое время ценит стабильность и предсказуемость жизни (во многом именно этим подсознательным стремлением к стабильности и предсказуемости, хоть, конечно, не только им, объясняется ностальгия по СССР многих из тех, кто застал Союз в относительно взрослом возрасте), то его жизнь эпоха перемен превращает в ад.
Если в эпоху перемен на вашей памяти только один раз сменился государственный строй и морально-нравственные основы общества изменились до неузнаваемости — вам повезло. Невезучим через подобного рода перемены приходилось проходить и по десятку раз. Причём не в течение пары лет какой-нибудь гражданской войны, когда власть в городе могла меняться трижды в день, а на протяжении двух-трёх десятилетий. Только человек обживётся, привыкнет к новой власти, начнёт без раздражения воспринимать её требования, как всё рушится и надо привыкать снова.
Эпоху перемен нельзя остановить волевым решением. Нельзя сказать переменам: «Хватит! Довольно! Пора остановиться!» — все, кто пытался остановить процесс прежде, чем он дошёл до логического завершения заканчивали жизнь в лучшем случае в изгнании, большинство — на эшафоте (в более поздние времена — в расстрельном рву). Самая разумная позиция для обычного человека (хоть и не героическая) сформулирована соратником Бонапарта по перевороту 18 брюмера VIII года Республики Эмманюэлем Жозжефом Сийесом, который, на вопрос чем он занимался во время террора, ответил «Я выживал» (некоторые авторы переводят его ответ «Я жил», но в данном случае смысл фразы не меняется, так как чтобы жить во время террора и пережить его, надо было прежде всего выжить).
Эпоху перемен можно укротить, только дождавшись того момента, когда она исчерпает свой разрушительный потенциал, когда не отдельных особо проницательных представителей народа начнёт тошнить от добытого в борьбе светлого будущего, когда не несколько лидеров поймут, что от дальнейшей борьбы за перемены станет только хуже, но когда подавляющее большинство начнёт мечтать о возвращении «проклятого прошлого». Только тогда на руинах прошлого, которое уже не восстановить, можно будет создать новое будущее, не такое прекрасное, как то о котором мечтали и ради которого миллионы отдали свои жизни, но вполне терпимое и определённо лучшее, не только чем эпоха перемен, но и предшествовавший ей «старый порядок».
Эксцессы эпохи перемен порождаются несоответствием исторических процессов и общественных ожиданий. С точки зрения истории, требуется замена исчерпавшей себя экономической модели и соответствующая модернизация политической надстройки (под новую модель). Лучше всего это получается в процессе реформ, обеспечивающих мягкие эволюционные изменения и не беспроблемный, но не трагический переход.
Однако эволюционный путь редко удаётся, даже если власть готова по нему идти. Общество не делится на власть и «всех остальных». Оно состоит из массы разных социальных групп и объединений (как профессиональных, так и идейных, родственных, сословно-классовых, прочих). Отдельный человек, как правило, включён в несколько подобных объединений, каждое из которых имеет свои интересы и своих антагонистов в существующем обществе. Интересы части объединений, в которых состоит человек (неформально, без членского билета и взносов, просто по жизни) могут толкать их к занятию охранительской позиции, а других к позиции революционной. Более того, в ходе эпохи перемен общественно-политическая позиция различных объединений может меняться (как на более или менее радикальную, так и на принципиально противоположную). Поэтому выбор позиции обычного человека происходит хаотически, под воздействием случайных факторов (позиции его друзей, знакомых, родственников или авторитетных для него личностей) под влиянием его личных неоформленных расплывчатых представлений о том, каким должно быть прекрасное будущее. Отсюда стандартная для эпохи перемен ситуация, когда члены одной семьи или закадычные друзья оказываются по разные стороны баррикад.
В главном эпоха перемен разделяет общество на основании представлений о справедливости. Общее принятие справедливости, скреплявшее общество ранее, уходит вместе с исчерпавшим себя экономическим базисом, больше неспособным ресурсно обеспечивать именно эту «справедливость». В результате общество разделяется на тех, кто выступает за «новую справедливость», трактуя старый порядок как несправедливый базисно и на тех, кто придерживается идеи модернизированной «старой справедливости», считая, что практичнее поправить имеющуюся надстройку, чем полностью её сносить и строить новую на залитом кровью соотечественников пустыре. Есть, разумеется и группа непримиримых сторонников «архаической справедливости», которая вообще ничего не хочет менять, ибо «деды так жили и нам завещали». Также каждая из больших групп делится на подгруппы по уровню радикализма, представлению о необходимых и достаточных механизмах перемен и т. д. Но главными остаются два объединения: за «старую справедливость» (реакционеры) и за «новую справедливость» (революционеры).
Эпоха перемен завершается тогда, когда на основании новой экономической реальности, выросшей из потрясений эпохи перемен, вырастает новый баланс общественной морали, сводящей различные понятия о справедливости к единому знаменателю. На основе этой объединённой «компромиссной новой справедливости», возникшее на новой экономической базе новое общество, состоящее из выживших старых сийесов и их потомства, немножко разбавленных чудом сохранившимися остатками прежних харизматичных революционеров и реакционеров, перебивших друг друга в эпоху перемен, создаёт новую политическую надстройку, отвечающую эпохе новой стабильности.
Именно поэтому, а не по злому умыслу «тайного мирового правительства» или «курирующих его рептилоидов», невозможно возвращение ни в СССР, ни в Российскую империю Романовых. Точно также невозможно и восстановление американской глобальной гегемонии, за которую бьются США и их союзники.
Их дело имело бы шансы на успех, если бы они отказались от попытки консервации старой, отжившей своё глобальной экономической модели, и попытались бы удержать своё господство за счёт ускоренного перехода к новой. Но силы, господствующие внутри этих государств, слишком реакционны и слишком зависимы материально от нынешней модели, чтобы согласиться на перемены хотя бы в рамках «старой справедливости» (при помощи постепенных реформ, которые им неоднократно предлагали Россия и её союзники (в частности, Китай). Они пытаются силовыми путём законсервировать «архаическую справедливость», толкая своих оппонентов в поисках баланса на всё более активную поддержку сил, выступающих с позиций «новой справедливости».
Похоже, что мир уже необратимо вошёл в разрушительный революционный цикл, отличие которого от прежних заключается в том, что он носит глобальный характер. Не череда локальных революционных потрясений, сливающихся в общеевропейский или даже мировой пожар, но всё же отличных друг от друга, но глобальный революционный конфликт, принимающий вид смешанной (мировой и глобальной гражданской) войны.
Поэтому все призывы сторон к миру, все договоры (если, паче чаяния, какие-то удастся заключить) ровным счётом ничего не стоят и не будут стоить до тех пор, пока Запад под гнётом поражений, неизбежных в связи с прогрессирующим параличом созданной им глобальной политико-экономической системы, не будет вынужден отказаться от концепции восстановления и сохранения своей (американской) гегемонии или не разрушится полностью (и как государственные образования и их объединения и как создавшее их общество).
Временные компромиссы возможны, но именно временные, как способ не сорваться в глобальный ядерный конфликт и/или восстановить силы и устойчивость собственного общества (которое также подвержено сильному давлению эпохи перемен). В остальном же надо понимать, что компромиссы потому и носят в нынешних условиях временный характер, что не в состоянии выполнить, присущую им в нормальное время функцию балансирования интересов (за ними сохраняется только средневековая роль передышки в конфликте, которую обе стороны собираются использовать для укрепления своих позиций перед новым раундом). В стратегическом же плане они лишь затягивают процесс окончательного решения, продлевая нервирующую граждан эпоху перемен.
С временными компромиссами или без них, реальная стратегическая цель одна — давление на Запад до тех пор, пока он не смирится с утратой гегемонии или не перестанет существовать как политическая реальность (как это сейчас происходит с Украиной). Без окончательного подавления «архаической справедливости» «компромиссная новая справедливость», основа новой общественной морали, родиться не может. Следовательно, невозможно и создание новой глобальной политической надстройки, обеспечивающей интересы ресурсно питающего её нового глобального экономического базиса. То есть, без подавления стремления Запада к гегемонии невозможно окончательно оформление нового глобального общества, каковое и знаменует возврат от эпохи перемен к эпохе стабильности.



